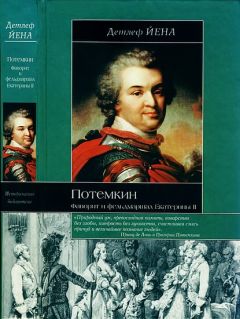Роман Шмараков - К отцу своему, к жнецам
Скажем еще, что превыше прочих обязанностей, налагаемых дружбой, стоит обязанность совета. Двойным мечом орудуют наши друзья, именно мечом укоризны и мечом взыскания, укоряя ум в совершенном им зле и взыскивая добро, которое подобало совершить; еще же благоразумно удерживают человека, который, будучи воспламенен их бичеваньем, безутешно оплакивает и то, чего никак не мог избегнуть, часто же и то дерзает начать, чего довершить не способен. Отсюда та неумеренная скорбь, оттуда та неразборчивая воздержность, от которых не только телесные силы, но и силы ума истощаются: одни поглощены столь неразумною скорбью, что ничье утешение не может их ободрить; другие по неумеренной воздержности столь тяжко пали, что никакому изобилию утех, никакому усердию поваров их не утолить. К чему я это говорю? Вот, наш господин, хотя следовало бы ему ехать к графу Ги и все усилия истощить, чтобы загладить проступки своего путешествия и вернуть себе былое расположение, который месяц довольствуется жизнью в своих стенах. Словно прекрасное его бесстрашие по скончании браней сделалось беспечностью, что внушает ему отсидеться за дверьми от грозящего ему гнева: но надеюсь, что нынешний гость его, славный муж во вратах, исцелит его уединение, мысли переменит и внушит благоразумную поспешность. Некий разумный и благочестивый муж, приведенный на судилище к ревностному гонителю христиан, на вопросы отвечал ему: «Скажу тебе, когда отгонишь от себя своих врагов», ибо гнев, гордыня, свирепость и многие другие сошлись и стали вокруг него, не давая ему увидеть истину. Подобным образом, надеюсь, и наш гость отгонит от своего гостеприимца тех, кто гостит у него без срока и без приглашения, властвуя в его чертоге, утробу и добро его терзая: это опрометчивость, слепая в грядущем, и безмерное упование на случай. Сетую я также, что весьма далек от нас и нашим просьбам недоступен еще один человек, тот, о котором рассказывал ловчий, что с ним был наш господин в большой дружбе; помнится, зовут его Гильом де Дарньи; может быть, он силен перед графом Ги и искусен умирять чужой гнев, переменяя его на милость. Может, и не помогло бы его заступничество, даже если бы он решил его оказать, но надлежало бы нам всеми путями следовать, тем более что их немного.
58
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Пришел к нам гость из монастыря, тот самый, кто некогда одним словом совершил чудо над нашим домом, сказав: «Господин ваш жив и скоро к вам будет». Между иными делами он рассказал мне, в каком великом почтении бывают у аббата мои письма (я ведь часто пишу ему, и по необходимости, и ради нашей давней приязни) и с каким торжеством он принимает их у себя в обители, словно самого Цицерона по пути из изгнания: едва объявят ему, что принесены вести из замка, он уже выбирает удобный час, чтобы насладиться ими: «столь великие дары», по слову поэта, «сулит богатое посланье», что ему не терпится вступить в обладание ими. Когда же время найдено, он созывает немногих монахов, с коими объединяет его приверженность литературным занятиям, и читает им все, мною написанное, как бы некую трапезу им предлагая. И вот теперь этот человек, которому я обязан любовью и послушанием, советует мне – а вернее, просит и всячески настаивает – чтобы я все мои письма, разбросанные в разные времена и по разным лицам, собрал вместе и, приведя их в порядок, выпустил в свет, на пользу и удовольствие многим. Он же просит меня, как о большом одолжении, без отлагательства посетить его монастырь, чтобы там ему одолеть мое упорство и добиться от меня желаемого. Что ты думаешь? «Хочу, – говорит, – и всем сердцем желаю всегда с тобою быть вместе, и не дано мне; хотя бы часто, и то не позволено. Упорствует Фортуна, в несчастном для меня деле вопреки своему нраву щеголяя постоянством. Но я верю, что сокрушится эта тягостная неизменность и я, не способный утолить моего о тебе голода, по малой мере на краткое время сладостною и любезною беседой твоей утешусь: подлинно сладостною, воистину любезною. Ведь если таков твой стиль, каков твой дух? Если таково твое письмо, каков твой язык? Ведь ты не как некоторые, с говорливым стилем, но бессловесными устами – или, напротив, обильные в вещанье, безмолвные в писанье. Если позволено малое сравнить с большим, не только своему Туллию ты, туллианец, прилежно следуя, препровождаешь слова от сердца на язык с легчайшею легкостью, но – что много достойнее – Апостолу подражаешь апостольски. Он ведь обещает: „Каковы мы в отсутствии, таковы и в присутствии“, ибо были в нем и живой дух на письме, и животворящая речь на языке. Их и тебе придала природа, приправив неким изяществом, чтобы ничем достойным не обделить твоего дарования: у тебя ведь и Саллюстиева краткость, и простота Фронтона, и цветистый Плиниев слог; каплет из твоего письма сладость и сердцу моему с каждым словом вливает млеко и мед, по слову Давидову: сколь сладки гортани моей речи твои»; и много иного в том же роде. Ты скажешь, я тщеславлюсь, – я же отвечу, что более всего мне отрадно быть ношею для благородных рук, чтением для благородных глаз. Как бы, однако, он ни упорствовал, не уничтожит моей боязни: ему ведь божество дружбы велит быть снисходительным, я же, его послушавшись, покину любезное уединение и выйду на глаза тем, кто обо мне не слышал, – людям придирчивым, заносчивым, которые в чужом сочинении ни одного закоулка не упустят, но все обойдут с фонарем. Кто скажет, что от одной любви и послушания я вышел к ним на глаза? Нет, сочтут мой поступок бесстыдством, назовут дерзостью молодости. Тем же, кому мил лишь Сатурнов век, я не понравлюсь лишь потому, что не умер вместе с Эннием, но продолжаю жить и дышать. Иные, найдя где-нибудь у меня мысль или оборот речи, заимствованный у древних авторов, скажут: «Вот, похитил он себе жену из тех, что были в хороводе» и посмеются надо мной, и словом – не будут пахнуть мои горшки тем, чем я их наполнил, но в глазах людей превратятся в сосуды беззакония; я же сто раз прокляну свою опрометчивость и тщетно буду пенять на взыскательность дружбы.
59
Досточтимому и боголюбезному господину Евсевию Иерониму, пресвитеру Вифлеемскому, Р., смиренный священник ***ский, – о Христе радоваться
Если ты спросишь, чем я занят в эту пору, я отвечу, что сочиняю письмо аббату – с таким прилежанием, словно не стоит надо мною множество дел, и важных, и неотложных, наперебой требуя моего внимания. «Чьим именем, – говорю, – начать мне это письмо, поставив его рядом с твоим, если не именем дружбы? Как говорит красноречивейший поэт,
имя дружбы, сие святое и чтимое имя —
оно давно связует нас, оно великие отрады и утешения мне подавало, оно же дает мне ныне просить о снисхождении. Ведь сладостная беседа, благое приятельство, общение неустанное, любовь к Писанию, отрада речей, любезность нрава, к одному стремление, от одного отвращение сочетали две души в простоту единства. Да устыдятся философы и вспять обратятся языки академиков, которые полагали, что простому не воссиять из сложного состава. Вот, двое сходятся воедино, и Аристотелевой тонкости изнемогает прилежание, которое, доверяясь многообразию слов, не ведает тайны неделимого единства и, полагаясь на различение внешнего, не входит под кров внутреннего человека. С тобою радуюсь, обеим Фортунам с тобою посмеваюсь: благосклонная, если ты ее разделяешь, прибавляет радости, неприязненная, если ты сострадаешь, отнимает тягости. Теперь же, побуждаемый твоим благорасположением собрать вместе письма, которые я отправлял разным лицам, и как бы сложить в один ворох злаки различных полей, я не знаю, что мне надлежит делать, и медлю в сомнительных мыслях. Ведь среди разных занятий, среди многообразных попечений моего сана и тяжело мне что-либо писать, и еще тяжелее противуречить вашему настоянию; а если бы знал я заранее, что мои письма привлекут внимание людей столь достойных, то все, что могло бы в них задеть утонченный слух, неусыпное мое бдение выправило бы и отшлифовало с великим тщанием и попечением. Ныне же в их природной безыскусности, как они созданы, опасливо предстают они вашим очам, скорее ожидая себе суда, чем домогаясь милости, и в том найдут высшую себе мзду, если не будут вовсе отвержены, но удостоятся некоего снисхождения. Ведь вам ведомо, что не всегда сила и удачливость нашего дарования соответствуют желаемому, иногда же пишущему случайно подворачиваются похвальные выражения, которых не обретешь ни непомерными стараниями, ни прилежными раздумьями; иногда и скудость предмета понуждает писать короче, и свойство лиц делает письмо то пространнее, то проще, то небрежнее. Итак, несодеянное мое пусть увидят и простят очи ваши, и в книгу памяти пусть запишется из моих сочинений то, что содействует спасению: ведь иногда открывает Бог младенцам то, что утаивает от мудрых, и прокаженными было возвещено спасение Самарии. Если же что будет иногда вплетено здесь от языческих писаний, вы не зазрите: ведь и Давид из венца Мелхома, идола аммонитского, себе сотворил диадиму, и Павел апостол в укоризну критянам применил слова поэтические». Многое подобное пишу я ему, тщательно прибирая и взвешивая каждое слово, словно уже согласился с ним, а между тем стыдливость моя – не знаю, благая или ложная – не хочет выходить на люди, желая всегда оставаться в потаенных покоях дома своего.